|
Любовь Моисеевна Равич Главная | Биография | Труды | Воспоминания | Фотографии | Стихи |
|
В первый раз я встретила Любовь Моисеевну Равич в другой жизни, на другой планете; по крайней мере, так мне кажется сейчас. Это было в августе 1978, в Ленинграде. Советский Союз был в силе и полном расцвете, и призрак холодной войны еще витал вокруг, несмотря на летнюю солнечную погоду. Это был мой первый визит в бывшую российскую столицу, и всего лишь второй визит в страну; в первый раз я была в Москве в 1960-x — студентка колледжа, только год изучавшая русский язык, я сопровождала моего отца на международную конференцию по антропологии. В августе 1978 я была уже библиотекарем-славистом и приехала в Ленинград на три дня после моего недолгого визита в Хельсинки, где я занималась библиотечными исследованиями, чтобы навестить моих коллег по программе библиотечного обмена. Вместе с моим мужем, который сопровождал меня в этой поездке, мы собирались также навестить несколько семей еврейских эмигрантов, работавших вместе со мной в Библиотеке Иллинойского Университета, а кроме того, встретиться с моей советской коллегой, Любовью Моисеевной Равич, с которой я переписывалась по поводу моих исследований в области истории русской библиографии. С Равич мы стали переписываться в начале 1970-х, после того, как я заинтересовалась работами русских библиографов, хорошо известных в Советском Союзе, но гораздо менее популярных на Западе. Я часто наталкивалась на имя Равич в своих исследованиях, поскольку она была автором многочисленных работ в области книговедения. (В 2003, по поводу 80-летия Равич, в С.-Петербурге была издана посвященная ей брошюра; список ее трудов включал около сотни работ, начиная с 1954; она продолжала печататься почти до самой ее смерти в 2006). Ее работа о Григории Николаевиче Геннади, кем я особенно интересовалась в тот момент, когда я впервые написала Равич, могла служить образцом ее стиля: элегантная, лаконичная, базирующаяся на глубоком изучении архивных материалов. Она была написана в лучших русско-советских традициях научных книговедческих работ. Ученики Равич, студенты Ленинградского Института Культуры, с некоторыми из которых я познакомилась в течение следующих тридцати лет, глубоко почитали ее. Я уверена, что именно благодаря ее влиянию, многие из них стали известными специалистами в своей области. Я написала Равич письмо, назвавшись ее поклонницей, и получила благожелательный ответ на русском языке (Равич хорошо знала немецкий, но не английский, так что кто-то перевел для нее мое письмо). Так началась наша оживленная переписка и обмен книгами и статьями, что и привело нас к встрече в 1978, первой в ряду многих встреч на протяжении следующих трех десятилетий. За те три дня, что я провела в Ленинграде, мы встретились с Равич дважды, сначала у нее дома, а затем в одном из прекрасных старых ленинградских парков. Среди многого другого, я признательна Равич за то, что, благодаря ей, я познакомилась с таким неотъемлемым явлением советской жизни, как печально известная коммунальная квартира. (По сути дела, квартира, где жила Равич, была первой, которую я посетила, будучи в Советском Союзе). Равич, её дочь Марьяна и внучка Катенька жили в одной небольшой комнате на пятом этаже старого здания (без лифта) в живописном "квартале Достоевского". Кухня и ванная комната были общими для нескольких семей, живших в той же квартире. Подъезд и лестница были грязные, темные и дурно пахли, но как только мы с мужем вошли в комнату Равич, мы почувствовали чудесную, тёплую и радостную атмосферу семейного дома, обставленного тяжёлой мебелью и наполненного запахами вкусной еды. Нам предложили кушанья, которые, должно быть, стоили нашим хозяевам многочасовых поисков в магазинах с пустыми полками и стоянием в длинных очередях за дефицитными продуктами. Вне зависимости от того, были мы голодны или нет, мы всегда пробовали все блюда, которыми нас там угощали, понимая, что отказ может обидеть наших радушных хозяев. Каждое из очередных посещений семьи Равич ассоциируется у меня с обильным угощением; о том, во сколько им это обходилось, я даже не решалась подумать. Любовь Моисеевна гордилась своим участием в Великой Отечественной Войне; в тот первый наш визит она показала мне свои медали с заметным волнением. Она также была горда своей дочерью - тоже библиотекарем - и своей маленькой внучкой. Ещё одной вещью, которая много для неё значила, было её еврейское происхождение; она была из большой и успешной семьи. Её научные достижения также были предметом её гордости; именно научная деятельность - её и моя - была тем, что нас объединяло и сдружило, и что долгие годы оставалось главным предметом наших с нею бесед. Равич была несказанно рада найти в моем лице молодого американского ученого, заинтересованного историей русской библиографии, что было ее страстью, и любила рассказывать мне о своих находках в архивах. Я сама была уже к 1978 глубоко увлечена новой темой - цензурой в царской России, и мне хотелось поговорить об этом с Равич. Я начала рассказывать об этом и помню, что Равич меня остановила до того, как я успела сказать слишком много. Она предложила встретиться еще раз, на этот раз на воздухе - якобы, чтобы показать нам местные достопримечательности и насладиться чудесной погодой. Я, конечно, сразу же осознала свою ошибку: говорить на столь щекотливую тему внутри советской коммунальной квартиры было неосмотрительно. На следующий день, когда мы прогуливались в тени деревьев, я рассказала Равич о своих исследованиях, касающихся выхода зарубежных публикаций в царской России. Она слушала очень внимательно, а потом прямо сказала мне с горечью, что я, и в самом деле, выбрала трудную тему. Я не получу доступа к советским архивам для изучения интересующих меня материалов, сказала Равич. Даже при том, что я не собиралась затрагивать тему советской цензуры, моя тема не была достаточно нейтральной; кое-кто мог провести нежелательные параллели между российским прошлым и советским настоящим. Я заверила ее, что намерена продолжать свои исследования, даже если мне придется обойтись только теми печатными источниками и материалами, которые имелись на Западе. Я помню, что она вздохнула и покачала головой; тем не менее, она не пыталась меня отговорить. Напротив, Равич пообещала помочь мне и подсказала, в какой именно архив надо обратиться и что написать в моем запросе. Я последовала ее совету, и несколько месяцев спустя получила сухой ответ: материалы, которые я запросила, хранятся в отделе, который в данный момент находится на ремонте, так что предоставить их в мое распоряжение не представляется возможным. Долгие годы мы с Равич обменивались осторожными письмами и вели осторожные разговоры в ее доме. (После распада Советского Союза нам, наконец, посчастливилось навестить семью Равич в отдельной квартире, что казалось немыслимой роскошью!). Здоровье Любови Моисеевны продолжало ухудшаться - у нее было больное сердце уже тогда, когда я с ней познакомилось, и ее болезни становились все более серьезными по мере того, как шло время. Я всегда привозила ей свои статьи и книги, а также отправляла их с моими коллегами, даже при том, что эти работы были на английском; Равич уверяла меня, что ее друзья помогут ей их прочитать. Она также посылала мне по почте свои публикации. Она всегда поздравляла меня (осторожно, в 1980-х, и открыто в пост-советские времена) и написала мне в высшей степени хвалебное письмо после того, как прочла русский перевод моей книги о цензуре в царской России**). Моя дружба и профессиональные отношения с Любовью Моисеевной Равич значили для меня больше, чем я могу это выразить, и ее уход из жизни - огромная для меня потеря. Она была настоящим, очень серьезным ученым, прекрасным и щедрым наставником. Я получила от нее мои первые уроки жизни в Советском Союзе, и я их никогда не забуду. Так же, как я никогда не забуду моего учителя. Перевод Е. Фридман
* Marianna Tax Choldin. Memories of L.M. Ravich // Solanus. New Series, 2007. — Vol. 21. — P. 87-89.
|
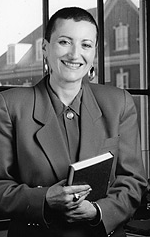 Марианна Тэкс Чолдин. Воспоминания о Л.М. Равич
Марианна Тэкс Чолдин. Воспоминания о Л.М. Равич